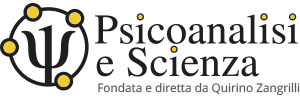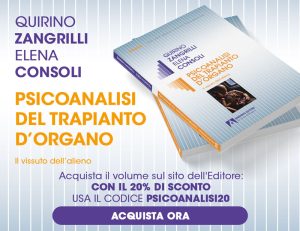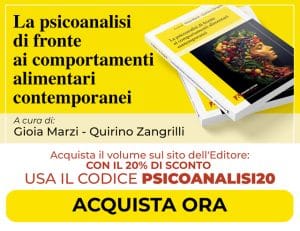Тема взаимосвязи между психоанализом и свободой чрезвычайно широка и рассматривалась многими психоаналитиками в различных областях: индивидуальной, социальной и политической. Среди авторов, писавших на эту тему, мы вспоминаем Фрейда, Юнга, Винникотта, Фромма.
Впрочем, мы, без сомнения, можем утверждать, что стремление к свободе всегда вдохновляло человека, который выражал его по-разному в зависимости от контекста, субъективных ситуаций и даже исторических эпох.
Но люди часто испытывают фундаментальный конфликт между стремлением к свободе (автономии и самоопределению) и желанием иметь связь (близость и единение с любимым человеком). Как классический психоанализ, так и современные подходы исследовали, как этот конфликт проявляется в отношениях, формируя наши либидинальные желания, модели привязанности и даже наш повторяющийся выбор в любви.
Чтобы достаточно объективно изучить этот конфликт, необходимо учитывать множество факторов, которые могут способствовать проявлению противоположных тенденций. В противном случае мы рискуем выносить поспешные суждения, обусловленные моральными и культурными ценностями или даже знакомством или незнакомством с определенными выразительными способами.
Например, в обществах, где на протяжении нескольких поколений привыкли к активной роли женщины, абсолютно сопоставимой с ролью мужчины в сфере труда и общества, может показаться немыслимым, что женщина посвящает себя только семье и заботе о детях. И невозможно принять во внимание возможность, пусть и отдаленную, ее свободного выбора.
Я не занимаюсь социальными явлениями, и мои размышления основаны на клинической практике. Поэтому я считаю, что необходимо договориться о значении, которое мы придаем слову «свобода». О какой свободе мы говорим? Фрейд подчеркивал, насколько градиенты свободы обусловлены компонентами, которые ускользают от сознательного желания и не зависят, или зависят только частично, от желания человека быть свободным. Следовательно, независимо от своей воли, человек подвержен ограничениям, создаваемым детскими травмами, либидинальными фиксациями, ригидностью психических инстанций, защитными механизмами и семейными условиями.
Ригидность защитных схем делает структуру “Я” мало пластичной и, следовательно, легко подверженной разрушению. В этих случаях то, что мы наблюдаем в ходе психоаналитической работы, представляет собой чередование состояний относительного благополучия и фаз обострения сомато-психического страдания. Эти колебания соответствуют выражениям большей свободы в вербальных ассоциациях, легкости доступа к эмоциям, открытости по отношению к отношениям, в отличие от фаз закрытости из-за ре-актуализации травмы со всеми сопутствующими симптоматическими и защитными проявлениями.
Чтобы придерживаться темы сегодняшней дискуссии, я решила поговорить о конфликте между желанием быть свободным и желанием иметь связь, с особым акцентом на любовные отношения.
Не случайно я сначала привела пример положения женщины, потому что гораздо чаще именно женщины выражают этот конфликт, нисколько не умаляя отношений зависимости, в которых часто застревают и мужчины. Но у женщины есть некоторые дополнительные ограничения, обусловленные ее биологической структурой. Например, у женщины этот конфликт обостряется, когда приближаются определенные годовщины, которые ставят ее перед лицом сроков фертильного возраста и, следовательно, перед выбором между созданием семьи и инвестициями в карьеру.
Конфликт, резюмированный Фрейдом в первой топике между сексуальными влечениями или влечениями к сохранению вида и влечениями “Я” или нарциссическими. Концептуализация, которая никогда не теряла своей силы, даже после формулировки второй топики. Безусловно, конфликт менее выражен у мужчин, даже в новых поколениях, в которых мужчина гораздо больше вовлечен в роль ухода за потомством. Это демонстрирует, насколько важным остается участие женщины в воспроизводстве. Физическое участие, то есть биологическое, а также психическое, которое начинается с беременности и вовлекает мать и ребенка на долгие годы, поскольку наш вид долгое время не приспособлен к автономии. Не говоря уже о психической связи матери и ребенка, которая, как мы знаем, может длиться очень долго, по крайней мере, до переноса либидинальных инвестиций на замещающий объект. И именно сексуальное влечение, то есть стремление к воспроизводству/самовоспроизводству (говорил Фанти), активирует повторение, или, возможно, было бы правильнее сказать, продолжение связи, прежде всего с ребенком, но из начально с партнером, «избранным» для зачатия. Конечно, это утверждение сегодня опровергается успехами медицины, которые позволяют обойти выбор партнера для воспроизводства: сегодня женщина может пойти в банк спермы, чтобы иметь ребенка. Для мужчины это не то же самое. Хотя при отсутствии полового акта мужчине, чтобы воспроизвестись, нужно найти женщину, готовую выносить его ребенка.
Стоит напомним, что для Фрейда влечение имеет биологическую основу. Целью влечения является снижение напряжения в органе, который также является источником потребности-желания, и снижение напряжения достигается посредством достижения объекта, на котором происходит разрядка. Следовательно, объект и цель влечения совпадают. В этом смысле фрейдовская теория влечений является теорией объектных отношений.
Однако Фрейд добавляет, что объектом влечения может быть также собственное тело или его часть и даже фантазия. В этом случае в конфликте между свободой и связью имеет превосходство нарциссическая инвестиция в “Я”. «Человек, который любит, – писал Фрейд, – отказался от части своего нарциссизма». Другими словами, посвящение либидо внешнему объекту уменьшает концентрацию на себе, создавая уязвимость, которая может быть восстановлена только взаимностью в любви.
В работах, после 1920 года, с формулировкой второй теории влечений, Фрейд рассматривает проявления конфликта между потребностью в связи и потребностью в свободе с точки зрения навязчивого повторения. Он отмечает, что в результате травматического детского опыта пациенты иногда повторяют болезненные модели отношений вместо того, чтобы искать удовольствия.
Постфрейдисты, начиная с Винникотта, подчеркивали важность объектных отношений, начиная с раннего опыта с объектом привязанности, который влияет на колебания между автономией и зависимостью в будущих отношениях. В первые годы жизни ребенок постепенно приобретает уверенность в себе, способность быть одному, играя в присутствии человека, которому может доверять, постепенно осознавая, что он отделен, но в то же время связан. Эта привязанность безопасна. В зрелом возрасте это означает, что человек может чувствовать себя автономным и «одиноким» даже в отношениях, потому что он несет в себе внутреннюю безопасность, проистекающую из обнадеживающей ранней привязанности. Винникотт проиллюстрировал эту концепцию ярким сценарием: после общего удовлетворяющего опыта (например, сексуальной близости) каждый партнер должен быть в состоянии быть одному, удовлетворенным присутствием другого. Винникотт пишет: «Возможность наслаждаться одиночеством вместе с другим человеком, который также одинок, сама по себе является опытом здоровья». В любящей паре каждый может временно уйти в себя, не чувствуя себя покинутым другим; существует взаимное доверие, что близость возобновится без чрезмерных опасений. Если один из партнеров не обладает этой способностью (из-за преждевременных прерываний связи с объектом привязанности), отношения могут стать удушающими или нестабильными – например, один из них цепляется или требует постоянных заверений, в то время как другой чувствует себя подавленным и отчаянно желает бежать. Винникотт относит такие модели к ранним стадиям развития. Например, если попытки отделения маленького ребенка встречаются с тревогой или непоследовательностью со стороны матери, ребенок может не достичь в полной мере чувства стабильного “Я”, отделенного от других. Во взрослом возрасте этот человек может воспринимать близость как потерю себя и яростно защищать свою свободу или, наоборот, воспринимать любую независимость как ужасающее одиночество и отчаянно цепляться за партнера.
В клиническом опыте мы находим подтверждение того, насколько этот конфликт ежедневно присутствует в любовных отношениях.
В странах, более внимательных к социальным проблемам и насилию в семье, распространились комьюнити для приема детей, которые потерпели насилие со стороны родителей. Суд по делам несовершеннолетних может предложить матери остаться с детьми, чтобы позволить профессиональным педагогам оценить ее родительские навыки. В это время отец проходит оценку со стороны социальных служб.
Социальные работники, которых просят наблюдать за родительскими навыками матерей, часто сообщают, что после первоначального периода, в течение которого женщины благодарны за то, что их вместе с детьми избавили от преследований со стороны жестокого мужа, возможно, страдающего алкогольной и наркотической зависимостью, они снова ищут контакта со своим мужем.
Эти матери не задумываются о том, какие последствия их противоречивое поведение будет иметь для их детей. Можно сказать, что связь с партнером является первичной по сравнению с связью с детьми. Более того, в случае психических или физических опасных отношений, конфликт между свободой и связью становится особенно очевидным. В этих случаях репродуктивный акт сводится к биологической необходимости, не подразумевающей наличия связи с ребенком, принятия на себя ответственности за его благополучие, его развитие и его будущее. Репродуктивный акт отвечает нарциссическому желанию заполнить пустоту и в то же время является средством получения вторичных выгод: содержания мужа или государства.
Но не все случаи столь экстремальны… и все же мы не упускаем возможности обнаружить конфликт даже в ситуациях, на первый взгляд весьма далеких от только что описанной.
Как уже упоминалось, некоторые годовщины, особенно для женщин, могут быть особенно болезненными и вызывать активацию необъяснимых симптоматических состояний, которые проясняются только благодаря психоаналитической работе, с помощью свободных ассоциаций, в которых выясняется рассматриваемый нами конфликт.
Юлия прекратила терапию год назад, потому что, больше не чувствовала в ней необходимости, но сейчас ей скоро исполнится 30, и ей опять плохо: она страдает от тревожности, нарушений сна и потеряла несколько килограмм. В этот год она добилась больших успехов на работе, почувствовала себя намного увереннее в себе, ее самооценка выросла. Она получила профессиональную премию и через несколько месяцев переедет в другую страну, где перед ней откроются большие карьерные перспективы. В отличие от всего этого, отношения с ее молодым человеком стали скучными. Ей часто хочется побыть одной, иметь больше личного пространства, она больше не может терпеть перепады его настроения, и даже сексуальные отношения стали более редкими. Она с завистью говорит о подруге, которая уехала одна в длительную командировку.
Несмотря на все вышесказанное, идея расстаться с парнем ее ужасает; она всегда думала, что он тот человек, с которым она создаст семью, но теперь ее желание переместилось в нарциссический полюс: определенно, это не желание материнства, а личной самореализации. Возможно, это временное колебание, и через несколько лет сексуальный импульс снова будет направлен на нынешнего парня, и пара преобразуется в семью. Это трудно предсказать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тема конфликта между необходимостью привязанности и стремлением к свободе была в центре психоаналитических дебатов с самого его зарождения, и, хотя на первый взгляд кажется, что у разных авторов (Фрейд, Винникотт, Фромм) существуют большие расхождения, на мой взгляд, больше общего, чем разногласий. Существо состоит в том, что конфликт существует в человеке с самого начала жизни и сопровождает его в процессе автономизации от объектов привязанности.
Более того, фрейдовская теория влечения подразумевает в себе связь, так как либидо смещается с целю достижения объекта. В противном случае, то есть если либидо не перемещается из места распространения на объекты внешнего мира, индивид «заморажен». Наконец, стоит запомнить, что сексуальное влечение, цель которого в конечном итоге – воспроизведение, содержит в себе концепцию связи. Ведь в нашем виде, который не размножается посредством партеногенеза, две половые клетки (яйцеклетка и сперматозоид) должны двигаться, встретиться и соединиться/связаться для гарантии продолжения вида.
Возможно, что современная тенденция к нарциссизму, то есть к трудностям в установлении достаточно устойчивой связи с объектом, является одной из причин демографического спада во многих экономически развитых странах.
Библиография
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo in Opere Vol.7 B. Boringhieri
Freud S. (1920) Al di la del principio del piacere in Opere Vol.9 B. Boringhieri
Freud S. (1915) Pulsioni e loro destini in Opere Vol.8 B. Boringhieri
Fanti S. (1984) Dizionario di psicoanalisi e micropsicoanalisi, Borla
Winnicott D. (1958) Sviluppo affettivo e ambiente, Armando
© Бруна Марци
Responsabile scientifico di Micropsy.academy, piattaforma per l’aggiornamento professionale di psicologi, psicoterapeuti, medici e psichiatri. E’ perito presso il Tribunale Civile di Bergamo. E’ autrice di numerose pubblicazioni presentate a Congressi nazionali ed internazionali. Curatore e co-autore di 4 libri in lingua russa. Possiede un’ottima conoscenza parlata e scritta dell’inglese e del russo.
————
Born in Frosinone on 01.13.1958. Graduated in Psychology at “La Sapienza” University of Rome. She carried out psychoanalytic training in Turin and Switzerland. Member of Italian Psychologists Association since its constitution in 1990 (n.5482). Member of the International Society of Micropsychoanalysis and training analyst of Swiss Institute of Micropsychoanalysis. Main lecturer of the module “Micropsychoanalysis” in the Postgraduation programme of “Psychoanalysis, psychoanalytical psychotherapy and psychoanalytical consultation” at Moscow Institute of Psychoanalysis. She works in Bergamo and Moscow, where she practices psychoanalysis and psychotherapy in Italian, Russian and English with people of different nationalities. She has extended experience on psychotherapy of battered and sexually abused women. She’s trainer and supervisor of several Hosting Communities for children and women and leads master classes for postgraduate psychologists in Italy and Russia. Scientific manager of training platform Micropsy.academy. Expert of the Court of Bergamo: Author of several scientific publications presented at National and International Congresses. She’s fluent in English and Russian languages.
————
Доктор психологии – психотерапевт – психоаналитик. Закончила психологический факультет римского университета «La Sapienza». Далее специализировалась в
микропсихоанализе и микропсихоаналистической психотерапии в Турине и в Швейцарии под руководством Проф. Н. Пелуффо. Зачислена в Орден психологов с самого его основания в 1990 (No 5482). Действительный член Международного общества микропсихоанализа, тренинговый психоаналитик Швейцарского института микропсихоанализа. Руководитель курса по микропсихоанализу в Московском институте психоанализа. Благодаря работе в области медицинских
и социальных услуг приобрела обширный опыт в случаях
психологического, физического и сексуального насилия по отношению к детям и женщинам. Ведет преподавательскую деятельность и супервизии с психологами и психотерапевтами разных учреждений. Эксперт Судьи г. Бергамо. Научный руководитель обучающей платформы Micropsy.academy. Является автором многих научных докладов и статей, представленных как на национальных, так и на международных Конгрессах. Хорошо владеет английским и русским языками.